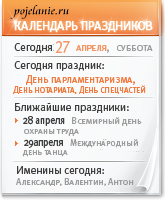Надежда Муравьёва – писатель, поэт, журналист, переводчик с испанского и английского языков, член союза журналистов России. Родилась в Москве в 1970 году. Училась в Литературном Институте и МГПУ им. Ленина. Некоторое время жила в Латинской Америке, в Колумбии. Сейчас живёт и работает в Москве.
Как журналист, сотрудничала с Независимой Газетой, в том числе с «НГ Ex-libris», где много лет была ведущей полосы и, позже, заместителем ответственного редактора. Как писатель – опубликовала роман «Майя» (2005) в издательстве «Захаров». Ее рассказы, стихи и переводы печатаются в отечественных и иностранных журналах. Была одним из лауреатов конкурса религиозной поэзии памяти Св. Филарета Московского. В 2007 году была номинантом премии «Ясная Поляна». В том же году в серии «Русский Гулливер» вышел её поэтический сборник «Cármenes». Переводчик стихов Честертона, Уолтера Де ла Мара, А. Э. Хаусмана, Мигеля Эрнандеса, Пола Гудмена, Эдуардо Каррансы.
Флейты греческой тэта и йота
О. Мандельштам
Страшно, флейтист, соглашаться с судьбой –
Здесь не проверит, а там не подчистит.
Старость, как меч, над твоей головой,
Флейты речистей.
Старость и гибель в далеком краю.
Побереги свою флейту-прощанье.
Храбрость еще испытает твою
Окрик: «На выход, с вещами!»
Страшно. Немецкая флейта больна.
Выдержит? Нет? у тебя не спросивши
Губы твои выпивает до дна
Звук о безумьи, увы, не забывший.
Холодно. Колко. И грубо. И лед.
Слушай внимательно. Думал – иначе.
Видишь, забвенье на смену идет
Чистому тону высокого плача.
Не исписал стопудовых страниц,
Не говорил о «высоком и вечном».
Музыка флейты, упавшая ниц
Перед лицом исковерканной речи.
Страшно, флейтист, возвращаться во тьму,
Есть ожиданье, и есть песнопенье.
Вдруг да услышать тебе одному
Робкого звука паренье?
Холод терзает твое волшебство.
Кончено. Губы твои помертвели.
Слушайте клавиши сердца его,
Ангелы флейты, тюремной свирели.
1990
Из цикла «Внутренняя речь»
Мы были тогда незнакомы,
Всем детством разделены,
В больницах скучали по дому
И видели схожие сны:
Был города выцветший кокон
Безжизнен, прозрачен и тих.
В похожести вымерших окон
Не выделить окон своих.
Там вещи слегка изменились
И улицы сдвинулись с мест,
Там лестницы накренились,
Спасительный темен подъезд.
Но комната все еще та же,
Как будто никем не взята.
Я трогаю стены и глажу,
Мой дом. А за ним пустота.
Мой радостный, ты ли утрачен,
Каким перечеркнут пером,
Каким номерком обозначен
В ряду обреченных на слом?
Вбегаю, срываюсь с балкона
И вижу, взлетев впопыхах –
Блестят тополиные кроны,
Как медная мелочь в руках,
Окно чердака за решеткой
И серую пропасть двора.
Над дальней зубчатой высоткой
Неслышно парят флюгера.
Не встретиться в городе сонном,
Пока или я или ты
Крылатую душу балкона
Не сдвинем со смертной черты.
Балконная дверь распахнется,
И день встрепенется за ней,
И сердце внезапно очнется
От детской печали своей.
Коснутся летящих ладоней
Шаги, голоса и листва
Безмерным весельем о доме,
О даре, о дали, о снах.
1994
***
По дороге
Обветшавшие сени мирного дома…
На сеновале трухлявый пол, и опасные доски, и дыры.
Река набухла, и правый берег размыло,
И Каменник весь разлился, так что камней
Не увидишь в чавкающей воде.
Две жерди, два хлипких мостка
Переброшены в этот мир из иного мира,
В одну мою жизнь из другой.
Ночами и днями, когда застучится под самое сердце
Вода оврага, реки, Каменника, дождя,
Родника, многоцветных луж по дороге в деревню,
Я выбираюсь на эти мостки и иду,
Осклизаясь, хватаясь за пропитанный
Влагой и дымом воздух.
Вот еще немного – и я упаду, и промокнут ноги,
Но каждый раз – еще немного – сквозь тяжкую глину оврага,
Земляничные мокрые листья
И пухлые шапки коварных белых растений,
Опушающих все лицо липучей пыльцой,
Я вырываюсь наверх,
Выхожу на свет
И вижу – старая ель обхватила руками березу,
Накрененную, словно лодка, и не дает утонуть,
И держит ее, прочно обвив ветвями.
А небо волнуется, и два еще километра до дома,
До мирного дома, единственного моего.
Еще подъем, и еще холм, и
Еще холмы мешают мне думать и видеть.
Но церковь моя в тополиных, крапчатых листьях,
Снесенная в пятьдесят первом,
Стоит у самой дороги.
Вот – мне бы идти налегке,
Но руки ноют от груза ненужных вещей –
От пустеющих воспоминаний об обидах и оскорбленьях,
О моем неумении вовремя выйти
Из игры, об этих мучительных играх…
Но ведь нет ничего -
Только плещется молоко, и капли
Бегут по жести бидона.
Донести молоко из одной деревни в другую –
Такое мирное, спокойное дело.
Донести мою
Многократную, эхом продленную нежность,
Открыть скрипучую дверь голубого цвета
И молочно-белое слово
Поставить на стол, которого все еще нет,
А, может, уже не будет.
И запах накаленной красной печи,
И серебристый, облупленный голубь над книжной полкой,
И голоса, и ощущение, что наконец
Воротился…
Господи Боже ты мой, я по этим мосткам,
По этой размокшей дороге, вдоль цепи холмов
Готова из ночи в ночь, изо дня в день,
Потому что Ты, потому что утрата,
Потому что ее не бывает,
Потому что Дом,
Потому что Ты,
Потому что память равна воде.
12 декабря 1994
***
Душа моя, ты - в гортани.
вся кровь от тебя болит.
Придумаешь сто названий –
тебе ни одно не льстит.
Доколе пребудешь раной,
Саднящей от слов и снов?
И станешь ли ты желанной,
Отплывши от берегов?
1995
***
И тихий смех.
И тихий голос в трубке телефонной…
Торжественно небесное биенье
Над маленькой беспомощной душой…
1998
***
Бьется сердце влажное в глубинах,
Выметнулось, выскользнуло, - вот
Бьется о тюрьму своих любимых,
Бьется сердце о гудящий лед.
Испятнали черные ушибы
Тело оперенное стрелы.
Эту плоть твоей летучей рыбы
На камнях от времени сырых.
1997
***
Нет, мне не дорог твой покой,
И свой я ни во что не ставлю…
В. И. Муравьев
Дороже пшеничных зерен
В заиндевелых полях,
Дороже горячего моря
В не ставших родными краях.
Дороже удачи дорожной,
Кофейного огонька,
Дороже дороги, похожей
На скользкий излом плавника
Мне эти просветы покоя
И книги в табачном дыму,
И наши беседы с тобою,
Которые в вечность возьму.
1997
***
Уходят в дождь беленые стволы
Туда, где мир настороженный стих,
Где полукругом сдвинуты столы,
И яблоки тяжелые на них.
Торжественность готовых переправ,
Пространство, осененное листвой.
Никто не стар. Никто уже не прав.
Никто не спит. И дом стоит пустой.
Оставленность. Земля стоит одна.
Не заперты пустые погреба.
Не выбелены скаты полотна,
И тяжесть, непривычная губам
За звуком звук у голоса крадет,
И разговор, не признающий слов,
Как белый свет, не двигаясь, растет
Над пустотой покинутых столов.
1997
***
Небо рассеялось.
Я выхожу из дома
И чувствую:
Камень
Разбился
На тысячу мелких осколков
И каждый из них –
острие,
ранящее меня.
Но не камень,
А только осколки
И каждая рана –
К радости.
1996
***
Обмелевшие, теплые не по-зимнему дни.
А на дне те же камни,
и так же как в реку
дважды в него не войдешь.
Преткновенье о сотворенное время,
Запинка разлета.
Выйти с другой стороны,
Чтобы заново –
От истоков и до теченья,
петляющего в морях,
череду воды,
пограничья текучих дней
обрести
в полновластьи
Жизни.
1997
***
Обретеньями полон дом,
И жасминовый тяжек куст.
Бледнолистую воду пьем,
Белых чашечек горек вкус.
Словно ты, водяная гроздь,
Словно ты, обретенный ствол,
Белым к самому сердцу шел,
Прорастая его насквозь.
В низкой комнате – без перемен.
Белый дар от самой земли,
Все ли листья твои в пыли,
Все ли двор у кирпичных стен?
Обняло. Пронизало. Прах,
Персть земная водой полна.
Скреплена. Ты, глина в руках,
Ты, что будешь обожжена,
Вознеси из самых глубин
Белый, белый всполох ветвей.
Светлолистый стоит кувшин,
Осиянный водой твоей.
1998
***
Осенью
Мимо полей,
Эхом полных лесов.
Посмотри
На дело рук своих,
Господине.
Осенью.
Мимо болот,
Облаченных в пестрое небо,
в смиренном
сниженье листвы –
преклони ухо твое,
Господине,
нынче яблочный год.
Близится царство твое.
1998
***
Словно ясень, растет многоточье,
Словно льется вода сквозь огни,
Словно жизнь остановлена ночью,
И нетрудными кажутся дни.
Открывается дверь за спиною –
Не гляди. Открывается слух.
С этой бедной душою больною
Осторожно обходится дух.
Сколько мира стоит за плечами,
Сколько этой скользящей воды,
Говорящей с тобою ночами.
Слышу, слышу сырые сады,
Слышу – даль раскрывается рядом.
Не оглядывайся на нее…
Невесомое зернышко сада.
Птица. Дерево. Счастье мое.
10 декабря 1998
***
Наташе
Так ровно хватило на долю мою
Огня и ветров, и трав,
Что я понимаю, о чем я пою,
К легкой воде припав.
Так ровно, что, кажется, нету слов,
Так полно, что нету сил.
Так много стянулось тугих узлов,
Но мир по-прежнему мил.
Ведь пламя легче любимых рук,
Вода светлее огня.
И Ты меня не оставишь вдруг,
И Ты не предашь меня.
Так ровно ветры со мной говорят,
Они будут петь, когда
Я смело вступлю в Твой невидимый сад,
Сияющая вода.
1999