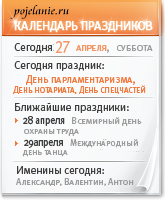1. ОТКРЫТЫЙ УРОК
* * *
Всегда был уверен в конечном счастливом исходе,
считал, что Пегаса объезжу с талантом моим,
что имя мое с восхищением в русском народе
подхватят потомки, и вечно я буду живым.
Я видел калек, я читал имена на могилах,
но страха не ведал, смеялся,вскочив на коня.
Был молод и думал, что конь мой крылатый не в силах
противиться мне и тем более — сбросить меня.
«Я лучший, Я самый!» — хлестала,как плетка, идея.
Хотелось аллюром легко просвистать на ветру...
Глухая провинция, пыль на обочине — где я?
Хромая и морщась, ушиб озадаченно тру.
Не лучший. Не самый. К пути своему не готовый.
С гримасой страдания, с горьким надменным смешком
я все озираюсь, я все не в себе еще — кто вы,
упорные люди, идущие мимо пешком?
* * *
Ты не любишь меня — это ясно по первому взгляду,
и напрасно, как мальчик, я каждое слово ловлю.
Ты не любишь меня — привыкаю к той мысли, как к яду,
только с каждою дозой все больше и больше люблю.
Ты не любишь... меня? И сомненье невольное мучит,
бесконечная нежность, как сон, заполняет мне грудь...
Жизнь пинает, как мячик, да все ничему не научит:
на себя невозможно чужими глазами взглянуть.
Улыбаюсь, шучу, принимаю беспечные позы,
приучаюсь в глаза без смущения, прямо смотреть.
Ты не любишь меня. Ну какие быть могут вопросы?!
Только я до конца не могу это уразуметь.
Потому-то, наверно, при встрече с тобой,в разговоре
каждый жест твой случайный и каждое слово ловлю.
Так и кажется мне, что обман твой раскроется вскоре:
можно ль вдруг — не любить, если я себя очень люблю?
ГОЛОД СЕРДЦА
1
Тяжелый полуночный бред,
бездонный... О истина, где ты?
От лампы направленный свет
подобен горенью ракеты.
И рвано хрипят за окном
порывы слепого ненастья...
Все истины вхожи в мой дом,
но нету и призрака счастья.
2
Голод сердца. Ах, если б я мог
утолить его!.. И поневоле
я приеду во Владивосток
на январских каникулах в школе.
Выйду с чувством неясной тоски
на перрон... Завывая натужно,
резкий ветер рванет за грудки:
— Кто такой? И чего тебе нужно?
3
Ровно в полдень над бухтою вдруг
тупорылая рявкнет мортира
и, под трубный шарахнувшись звук,
взмоют голуби, символы мира.
Закачаются в небе весы,
но опять ничего не отмерят...
— Эй, зеваки! Сверяйте часы.
Полдень, граждане. Местное время.
4
Когда с собою не в ладах,
люблю с толпой вечерней слиться,
бродить в общественных местах,
бесцельно всматриваясь в лица.
Порой знакомые черты
мелькнут над отворотом меха,
и сердце дрогнет нежно: «Ты?..»
— «Не ты, не ты!..» — забьется эхо.
Л И Ц О
1
Твое лицо парадным выраженьем
сияет в темноте, как ресторан,
и жадный взгляд грозит самосожженьем,
но я легко распознаю обман.
Гори, гори болезненно и рвано,
я поддержу нелепую игру.
Зачем мне правда, коли без обмана,
быть может, завтра я уже умру?
2
Толстовское желание срывать
прочь всяческие маски, проще жить,
нелепое желанье правду знать,
что луковицу чистить — слезы лить.
* * *
«Схожу с ума» — привычное клише,
когда о страсти сообщают... Но
ума давно лишен я, а в душе,
как в собственном гробу, совсем темно.
Ты ждешь. Молчишь. Не задаешь вопросов.
И лишь белками светишься во тьме.
В них по-кошачьи вспыхивает фосфор...
Да ты сама — в своем ли ты уме?
* * *
Делаю вид, что смел,
бойкую речь держу.
Руку твою задел,
чувствуешь? Я дрожу.
Холод. И как ответ
дрожь от руки — твоя.
Ужаса красный свет,
встречная колея.
НА ПОДВЕСНОМ МОСТУ СКРИПУЧЕМ
1
Сомнамбулические синие огни
по вечерам горят, как пламя спирта.
В глубокой тьме налаженного быта
приводят кровь в смятение они.
И заслоняя полыханье звезд,
искусственные млеют переливы.
И подвесной покачивает мост
мой одинокий шаг неторопливый.
2
Как по живому —
вскрик и вздох!..—
ступил
и обмер в чувстве жгучем
один,
застигнутый врасплох
на подвесном мосту скрипучем.
Любовь,
как общая молва,
как девочка,
идя за мною,
лишь обернулся —
обошла,
обдав горячею волною...
* * *
Был я влюбчив когда-то,
пленялся легко и курьезно
и страдал оттого,
что меня не любили серьезно,
а теперь меня любят,
но это не меньшая бездна:
солнца нету в груди,
а чужое не взять, бесполезно.
А чужое — горит
и бежит по пятам за забором,
когда я, как в тюрьме,
слишком узким иду коридором,
и хватает за пятки,
за сердце хватает виною,
озаряя во мраке
своей световою волною...
* * *
Я сижу, как скворец на заборе,
и сквозь зубы плюю на завет:
невлюбленный поэт — стихотворец.
Стихотворец — уже не поэт.
Но придавленный истиной этой,
безнадежно и горько молчу...
Разучившись любить беззаветно,
я завет исполнять не хочу.
* * *
Жизнь, конечно, прекрасна. Но — мало:
словно пытку, работу терпеть...
Пятиклассница Маша сказала:
— Надоело! Хочу улететь.
Небо черное, небо ночное
засияло над нашей дырой.
Стать — желанье такое земное,—
пусть хоть маленькой, только б звездой!
У звезды неземные заботы,
у звезды неземные пути.
Ни учебы тебе, ни работы,
ни начальства —лети и лети!
Темен звездный маршрут, но прекрасен.
Жаль, доступен он лишь молодым...
Маша, Маша! Возьми, я согласен.
В самом деле, давай улетим!
НА СЕДЬМОМ НЕБЕ
И опять стюардессы манящая синяя юбка
в волнах взглядов мужских, устремившихся следом синхронно,
вызывая во мне первобытную жажду поступков,
проплывает безмолвно, как тихая лодка Харона.
И послушный волне, провожаю потерянным взглядом
лодку юбки и мысль, завилявшую вслед ей двусложно:
«Удивительно все-таки: столько возможностей рядом,
и при этом ничто, никогда и нигде для меня невозможно!»
ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
Любовь и слава проплывают мимо,
на мандолине сердца ноет брешь...
В фамилии моей необъяснимо
красив лишь именительный падеж.
Прислушайтесь к звучанью — довод веский!
в предложном падеже: о Шепета!
Здесь, как заметил Федор Достоевский,
не правила спасают — красота.
Я не француз — и это твердо знаю,
есть лишь в хохлах далекая родня.
Но я себя упорно не склоняю,
и вам склонять не надо бы меня!
ПОД ШУМ БЕРЕЗЫ
Шумит береза на ветру
и вздорной мыслью сердце ранит,
что, если я сейчас умру,
она шуметь не перестанет.
Не перестанет даль глядеть
невозмутимым синим взором,
не перестанет птица петь
в кустах за сломанным забором.
И сядет солнце за горой.
И вновь взойдет. И хлынет ливень,
никак не связанный со мной...
Мир этот слишком объективен.
Лучей вечернее тепло
ловлю лицом и чуть не плачу
под шум березы оттого,
что я так мало в мире значу.
Что люди, вроде птиц в кустах,
в плену каких-то личных песен
живут, испытывают страх,
и я им мало интересен.
ПРОТЯЖНЫЕ ПЕСНИ
1
Глазею в окно — уж такое поэтово дело! —
черкаю стишки, и в черкалище этом сапожном
тоскует мое одичавшее звонкое тело
по женскому телу, как острая сабля по ножнам.
Бушует весна. Заглянул ко мне в комнату шершень,
зазуммерил, словно лезвия ножниц, и слепо,
вступленье такое не слишком приличным нашедши,
над самым письмом пролетел, покосившись свирепо.
А мне все равно. Я не слышу подобные песни,
слегка обезумев над собственным грешным созданьем.
И жду телеграмм. И каких-то счастливых известий...
Вся жизнь моя стала каким-то сплошным ожиданьем!
2
А нашу соседку любовник, наверное, бросил:
пятнадцатый раз безутешно и так вдохновенно
заводит она актуальнейший шлягер про осень,
что ноет мое поврежденное в самбо колено.
И я, разминая суставы, бросаю «подхватом»
свой стул на ковер, не давая развиться болезни,
и снизу сосед, как вулкан, извергается матом...
У каждого в жизни свои задушевные песни.
О, все мы безумны, и это спасает нас где-то
от черной тоски и от мелкой житейской напасти,
давая возможность отбиться козырным валетом
тому, кто живет под влиянием собственной страсти.
3
Внизу под окном стало тесно совсем от футбола,
гоняют весь вечер и спорят до изнеможенья
мои подопечные чады... Какая там школа!
Какие там, к черту, глаголы?! Какое спряженье?!
Неловко мне спрашивать девочек, видя, как осы
кружатся над ними, почуявши запах нектара,
а к мальчикам в мае какие быть могут вопросы,
когда в их башке содержанье футбольного шара?
Усталый невольник своей человеческой доли,
как зверь, заметавшийся в вырытой предками яме,
я б мальчиков этих послал... на футбольное поле.
А девочек я отпустил бы на поле с цветами!
4
Да я и врагу не желаю подобных мучений:
на личном примере, как бог,подавив в себе беса,
на каждом уроке при помощи нравоучений
детей выводить из страстей, как из темного леса!
Давно ли я был вот таким же беспечным и юным?
Все в кучу смешалось неловко и неодносложно,
и так я устал, что махнул бы на все я и плюнул!
Да только исправить теперь ничего невозможно.
Да, коль уж затрачены лучшие силы и годы,
а ветра попутного нету и нету,хоть тресни,
то ждать остается у моря хор-рошей погоды
петь до рассвета, как чукче, пр-ротяжные песни.
* * *
Жизнь многогранна, и всегда в избытке
сравнений у поэта под рукой,
так вот моя — сродни ужасной пытке,
когда не знаешь тайны никакой.
Мне после смерти памятник воздвигнут,
украсит борт фамилия моя
за то, что был стихом и бит, и выгнут,
но не открыл вам тайны бытия.
* * *
Хотел сочинить о любви,
открыть голубую планету
в горячем приливе крови...
Да что сочинять, если нету!
А есть непокорная кровь,
горячность и ужас холодный,
когда подступает любовь,
как волк осмелевший голодный.
ПО СЛЕДУ КАТАСТРОФЫ
За грядою сопок
падал день, как в пропасть,
солнечный пропеллер долго тарахтел...
А потом все стихло:
золотая лопасть —
месяц
плавно-плавно
над грядой взлетел.
Вот и все.
Вцепившись
в шторы, словно в стропы,
и ища спасенья,
как пилот,
во мрак
я лечу по следу
этой катастрофы...
Юность моя, радость,
ну зачем ты так?
* * *
А. Р.
Солнце гаснет вдали, и от взгляда его потускневшего
тусклый-тусклый бреду я вдоль берега дивной реки
с чувством, очень похожим на чувство отшельника-лешего,
видя, как, обгоняя, идут и идут рыбаки.
Солнце светит нам всем одинаково нежнои ласково,
отчего же мне кажется, что у меня все не так?
Вот сияет улыбка, как спиннинг с блескучей оснасткою...
Неужели я тот же веселый и грубый рыбак?
Ведь когда это солнце завязнет на косах заиленных,
засияют огнями ожившие к ночи дома,
словно рыба в сети, это солнце забьется в извилинах
изощренного в жгучих и странных вопросах ума.
Неужели, блесну оснастивши тройными вопросами,
с беспокойной надеждой и глупою верой в судьбу
я пытаюсь ловить человеков таким же вот способом?..
И вопрос, как крючок, подсекает меня за губу.
ПОЗДНИЕ ВСХОДЫ
Утро. Туман. Выплываю и снова тону.
Птица лесная на ветке нахохлилась зябко.
В левой — лопату несу поднимать целину,
в правой — уже для прополки — напильник и тяпка.
Так уж случилось, что всходы выпалывал град,
дождь моросил, и цветы не цвели, цепенея.
Выдалась трудной весна, но я виноват
в том, что ни ягод пока, ни плодов не имею.
Вот мой участок. Он весь из отдельных кусков,
лени моей беспросветной следы преступлений.
Вижу, смущенный, на грядке среди сорняков
поздние всходы прекрасных культурных растений.